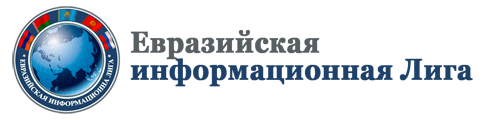Обострение великодержавной конкуренции к началу 2020-х годов актуализировало проблему «жесткой» безопасности для всех участников международного взаимодействия. Североатлантический альянс (НАТО), с момента окончания холодной войны находившийся в процессе постоянного переосмысления своей роли в международных процессах, столкнулся с необходимостью балансирования между региональным и глобальным направлениями деятельности. Поскольку масштаб задачи определяет специфику стандартизации военно-промышленных комплексов союзников, соответствующих смежных рынков и информационной политики блока [Rühlig, 2023], приоритетом для руководства и лидеров альянса стало обоснование потребности дальнейшего наращивания коллективного оборонного потенциала.
Исторически легитимация изменений в политике НАТО осуществлялась благодаря фактору общей угрозы. К началу 2020-х годов в выступлениях представителей Североатлантического альянса участились упоминания Китая и опасности усиления его позиций в мировом порядке, и уже в 2022 г. за КНР был на официальном уровне закреплен статус государства, представляющего системный вызов странам блока. Этот шаг спровоцировал волну обсуждений в средствах массовой информации, экспертных и академических публикациях, но разъяснить его необходимость оказалось непросто по ряду причин.
Во-первых, КНР не представляет непосредственной угрозы военной безопасности для большинства государств объединения: если американо-китайские столкновения могут произойти в Тихом океане, то для европейских стран альянса такая возможность практически исключена. Пекин занимает второе место в мире по расходам на оборону, но китайский военный потенциал несопоставим с американским и тем более — с кумулятивным потенциалом стран НАТО. Кроме того, изменение баланса сил само по себе не является непременным условием формирования угрозы — возможен также сценарий аккомодации ревизиониста [Accommodating rising powers…, 2016]. Показательно, что в начале 2010-х годов выдвижение КНР в регионы, представляющие интерес для НАТО, в том числе в Центральную Азию, на Ближний Восток и в Африку, рассматривалось как повод для сотрудничества с Китаем, а не для опасений. Во-вторых, европейские страны НАТО сохраняют тесные экономические связи с КНР. В публичных выступлениях и официальных документах последних лет ЕС посылает противоречивые сигналы, характеризуя Китай как «партнера по диалогу, экономического конкурента и системного соперника», но взаимодействие по экономическим, научно-технологическим, климатическим вопросам продолжается, а объемы взаимной торговли растут. Евросоюз не поддержал развитие торговой войны США и КНР в конце 2010-х годов, и эскалация в отношениях с Пекином не соответствует его интересам. Соответственно и экономическая логика не могла быть ключевым фактором при закреплении Китая как системного вызова для альянса.
Наконец, конструирование «китайской угрозы» также едва ли требовалось для укрепления материальной базы НАТО, например, за счет мобилизации военных бюджетов европейских государств- членов и долгожданного повышения их расходов на оборону. Этот процесс и так был активизирован на фоне конфликта между Россией и Западом вокруг Украины: к середине 2022 г. многие страны НАТО увеличили отчисления в совокупный бюджет. Перестройка военной машины альянса под сдерживание Китая в свою очередь требует куда более серьезных затрат и, более того, в условиях кризиса архитектуры безопасности в Европе не отвечает тактическим интересам блока. На фоне эскалации конфликта с Россией исчезла необходимость поддержания «китайской угрозы» и в целях укрепления внутренней сплоченности, в том числе в сферах, не связанных с военными бюджетами напрямую.
Таким образом, вопрос о причинах секьюритизации Китая в евро-атлантической повестке при сохранении прежнего соотношения сил и образа действий Брюсселя и Пекина в 2020-е годы остается открытым. Академические исследования по теме при этом носят единичный характер и в России, и за рубежом.
Отечественные авторы в качестве одной из причин, обусловивших секьюритизацию КНР в дискурсе НАТО, называют стремление альянса в изменившихся условиях сохранить удобный для него порядок, основанный на правилах» [Данилов, 2021]. Вторым по распространенности объяснением новой риторики блока в отношении Китая, характерным преимущественно для российских исследований, является рассмотрение расширения повестки дня НАТО через призму политики США по продвижению своих интересов в Азии [Ермаков, 2022; Батюк, 2022; Левандовский, 2022]. Как правило, такого рода исследования носят прикладной характер, что также не позволяет рассмотреть секьюритизацию КНР в более широком диахроническом контексте. Кроме того, сосредоточение исследовательского внимания исключительно на США представляется упрощением, поскольку интересы европейских стран альянса на китайском направлении достаточно ярко выражены. При этом можно констатировать, что в отечественной литературе практически нет исследований связи внутренней динамики межсоюзнических отношений и «китайской угрозы», а также влияния последней на евро-атлантическое единство и солидарность [Приходько, 2019].
Западные исследователи, говоря о причинах секьюритизации КНР в дискурсе НАТО, чаще всего указывают на внешние обстоятельства, прежде всего на общее обострение международного соперничества, связанное с трансформацией мирового порядка, которая стимулирует конкуренцию между странами НАТО и набирающим силу Китаем [Hooft, 2022; Herold et al., 2022; Vankovska, 2022]. В зарубежных работах преобладает восприятие этого процесса как объективного, неизбежно подталкивающего западные страны к симметричным действиям [Hooft, 2022]. Эмпирическим ограничением этого объяснения выступает отсутствие явного триггера для формирования «китайской угрозы», такого как резкий рост военного потенциала Пекина, резкая деградация экономического взаимодействия со всеми странами альянса или неожиданное изменение внешнеполитического курса КНР. При этом следует отметить, что политика НАТО редко изучается зарубежными авторами в исторической ретроспективе, и это представляется серьезным упущением. Что касается внутренних детерминант секьюритизации КНР, то можно встретить предположения, что она была призвана укрепить позиции евро-атлантической бюрократии [Rynning, 2022]. Впрочем, эта гипотеза кажется не очень убедительной, поскольку за 75 лет у альянса сформировались различные общие практики, такие как гражданские миссии или учения, которые и так на постоянной основе содействуют институционализации и легитимации евро-атлантических структур. Вторая, «внутриполитическая» гипотеза указывает, что поддержание конструктивных отношений с КНР противоречит нормативно-ценностной идентичности НАТО [Bechna, Thayer, 2016]. В качестве контраргумента можно выделить то обстоятельство, что в годы холодной войны ценности альянса и коммунистического Китая также различались, однако это не приводило к формированию «китайской угрозы» в повестке дня НАТО. Наиболее системным исследованием роли фактора КНР во внутренней динамике развития Североатлантического альянса в настоящий момент является статья Дж. Майклса [Michaels, 2022]. В ней автор на исторических примерах показывает, что независимо от того, была ли китайская риторика НАТО положительной или отрицательной, разногласия между государствами-членами удерживали альянс от каких-либо проактивных действий по отношению к контрагенту.
По мнению исследователя, закрепить представления о «китайской угрозе» как общем вызове для блока сегодня и изменить его действия на китайском направлении получится, только если преодолеть эти внутренние разногласия.
В данной статье предпринимается попытка дополнить и развить линию рассуждений, заданную Дж. Майклсом, полнее раскрыв логику преемственности в евро-атлантической политике на китайском треке. В этом контексте предлагается взглянуть на проблему секьюритизации КНР в начале 2020-х годов как на производную от усилий по укреплению коллективной идентичности Североатлантического альянса, а именно по созданию идентичности НАТО как глобального игрока, выявить ключевые детерминанты этого феномена и оценить перспективы его развития в современных условиях.
Безопасность и идентичность: конструктивистский ракурс
В статье используется конструктивистский подход, базовое положение которого по отношению к проблематике безопасности заключается в том, что опасность представляет собой не объективное условие окружающей среды, а социальный конструкт, результат специфических восприятия и интерпретации того или иного процесса или явления [Dittmer, 2005]. Подобное конструирование может происходить бессознательно, под воздействием глубинных мировоззренческих установок игроков либо за счет осознанного распространения этих установок лидером или элитами в социальной группе/объединении. В последнем случае открывается возможность сформировать у реципиентов «объективное» восприятие тех или иных событий; прочертить четкую границу между идеалом («верным» пониманием действительности) и его искажениями [Dittmer, 2005]. Наличие единого восприятия в свою очередь дисциплинирует отношения внутри сообщества, легитимизирует общие действия, позволяя лидерам сэкономить временные и имиджевые ресурсы, в противном случае необходимые для убеждения союзников в правильности выбранного курса [Истомин, 2023].В рамках конструктивистского подхода можно выделить два направления мысли, которые имеют наибольшую объяснительную ценность для затрагиваемых в статье вопросов: это исследования Д. Кэмпбелла о связи идентичности государств и их подходов к формированию угрозы и теория секьюритизации, предложенная так называемой Копенгагенской школой.
Работы Д. Кэмпбелла во многом заложили основу для теории секьюритизации. Исследователь утверждал, что количество рисков в мире слишком велико, чтобы акторы могли объективно оценивать, какие из них действительно представляют угрозу в тот или иной момент времени, а какие нет. В этой связи внешнеполитические элиты «выбирают» ту угрозу из существующего списка, которая убедительнее всего позволит сформировать коллективную идентичность на основе оппозиции «свой — чужой» и тем самым обосновать необходимость совместного существования [Campbell, 1992]. В интерпретации автора интересы безопасности не являются объективной реальностью для государства, а представляют собой целенаправленно созданный для поддержания его акторности продукт и исходный элемент для первого этапа формирования идентичности на основе отделения «себя» от «другого».
В развитие идеи Д. Кэмпбелла его последователи показали, что закрепление такой идентичности происходит за счет непрерывного производства и воспроизводства сформулированных представлений в дискурсе и на практике ответственными за национальную безопасность ведомствами [Krause, Williams, 1996]. В частности, работа Б. Бузана, О. Уэвера и Я. де Вильде углубила идею критических конструктивистов о роли практик, а именно дискурса, в процессе конструирования и использования угрозы для изменения коллективного поведения и поддержания общности. Этот процесс переведения события или явления за счет соответствующих нарративов в разряд экзистенциальной угрозы, требующей вмешательства на высоком политическом уровне, получил название «секьюритизация» [Buzan et al., 1998].
Представители Копенгагенской школы безопасности на основе своих исследований пришли к схожему с Д. Кэмпбэллом выводу, что повод для секьюритизации вовсе не обязательно должен быть связан с конкретным событием или действием со стороны контрагента; зачастую достаточно самого существования альтернативной модели, которая ставит под сомнение претензии идентичностей членов сообщества на статус единственно «правильных», «объективных». Таким образом, инструментальное, критическое отношение к категориям «угрозы» и «опасности» сближает исследования Д. Кэмпбелла и представителей Копенгагенской школы, что позволяет совместить их теоретические наработки для решения поставленных в работе задач. В рамках первого подхода можно выявить логику формирования восприятия КНР странами НАТО в различные исторические периоды и объяснить, почему секьюритизация китайского фактора началась только во второй половине 2010-х годов. С помощью второго подхода появляется возможность проанализировать, как именно происходит этот процесс, чтобы сделать выводы его потенциальной эффективности.
Идентичность НАТО: от военно-политического союза к сообществу безопасности
По завершении холодной войны изучение влияния коллективных самопредставлений на внешние действия Североатлантического альянса стало одним из основных направлений исследований политики объединения. В научной литературе сложилось несколько интерпретаций сущности НАТО: как военно-политического союза; сообщества безопасности; инструмента проецирования силы отдельных акторов, прежде всего США [Истомин и др., 2020]. Разнообразие интерпретаций во многом обусловлено тем, что они проистекают из оценки деятельности альянса с позиций разных теоретических подходов: неореализма [Waltz, 2000] и теории альянсов [Hendrickson, 1999; Morrow, 1993], конструктивизма и английской школы [Buzan, Schouenborg, 2018], неоинституционализма [Wallander, 2000] и т.д. Однако, на наш взгляд, указанные интерпретации также могут быть рассмотрены и как взаимодополняющие — описывающие различные этапы развития объединения. В таком случае процесс формирования евро-атлантической идентичности можно представить как преемственный, что в свою очередь позволяет последовательно проследить, какую роль фактор КНР играл в конструировании коллективных самопредставлений НАТО на том или ином этапе.
Военно-политический альянс в эпоху холодной войны.
Североатлантический альянс создавался с четко определенной целью сохранения присутствия США в Европе и сдерживания Советского Союза. Представления НАТО о своей роли в мире в биполярный период были географически компактными: оборонная структура блока носила позиционный характер, и попыток вмешаться в события вне Европы не предпринималось. Общность стран-участниц подкреплялась также приверженностью демократическим ценностям, указанным в ст. 2 Североатлантического договора, капиталистической, а не социалистической модели развития [Karber, Combs, 1998]. Поскольку коллективная идентичность выстраивалась вокруг военно-политической составляющей и вплоть до распада СССР успешно воспроизводилась за счет «угрозы с Востока», ее чисто политические компоненты были вторичными: они не препятствовали ни расширению альянса за счет авторитарных, но необходимых для сдерживания СССР Греции и Турции в 1952 г., ни сближению с отнюдь не демократическим, но перешедшим на антисоветские позиции Китаем. Более того, в 1970-е годы американо-китайское сотрудничество позволило использовать взаимодействие с КНР как элемент укрепления евро-атлантической сплоченности на основе сдерживания СССР. Пекин получил доступ к программам подготовки альянса [Shambaugh, 1992], подписал контракты на закупку вооружений в Италии (комплексы противовоздушной обороны), ФРГ (противотанковые вооружения), Франции (радиолокационные станции), Великобритании (моторы и комплектующие для истребителей) [Casarini, 2006]. Европейские страны призывали способствовать индустриализации Китая как потенциального союзника, и на какой-то период его даже стали называть де-факто «16-м членом» евро-атлантического сообщества [Yi, Yang, 2023].
Соответственно для НАТО в этот период роль значимого «чужого» играл только СССР, а не КНР. Показательно, что попытки США сконструировать образ «китайской угрозы» в глазах союзников в 1960-е годы, после создания КНР атомной бомбы и начала американского вмешательства в войну во Вьетнаме, не привели к успеху [Michaels, 2022]. Нормализация отношений Вашингтона и Пекина во второй половине 1960-х – 1970-е годы, напротив, способствовала развитию плодотворного сотрудничества, несмотря на политические и идеологические различия. Это позволяет предположить, что логика поведения НАТО в отношении Китая в тот момент зависела не от того, представляет ли КНР угрозу военному потенциалу альянса, его системе ценностей или модели экономического развития его участников, но от того, оказывает ли политика Пекина влияние на сплоченность союзников как таковую.
Сообщество безопасности в постбиполярный период.
Завершение холодной войны спровоцировало кризис идентичности НАТО, поскольку лежавшая в ее основе «советская угроза» исчезла. В 1990-е годы изучались возможности масштабирования самопредставлений альянса как военно-политического союза за счет конструирования образа нового «чужого» в Азии. Однако тогда эти идеи не получили развития ввиду географической удаленности региона от традиционной «зоны ответственности» НАТО, сложности в перестраивании военной машины под новые задачи, особенно на фоне расширения, и без того представлявшего вызов с точки зрения оперативной совместимости военных комплексов, а также по причине отсутствия явных идеологических предпосылок для запуска механизмов секьюритизации [Hemmer, Katzenstein, 2002].
В отсутствие значимых традиционных вызовов, инаковость которых могла бы подчеркнуть «правильность» модели функционирования НАТО, Брюссель начал активно искать для себя новые роли в международных процессах за счет акцентирования политического измерения объединения [Kitchen, 2009]. Объяснение такой эволюции и обоснование формирования новой идентичности были найдены в рамках концепции «сообществ безопасности», под которыми понимались объединения суверенных государств, разделяющих взаимные ожидания мирных перемен [Security communities, 1998], т.е. интерпретирующих друг друга как «своих». При этом если стартовым условием для создания такого сообщества является, по мнению исследователей, наличие общего списка угроз [Security communities, 1998], то в дальнейшем эволюция коллективной идентичности идет уже за счет адаптации к изменениям среды [Pouliot, 2006], когда по мере накопления материальных ресурсов и институционализации общих практик управления зрелое сообщество безопасности может существовать и в отсутствие непосредственной опасности [Waever, 1998, Williams, Neumann, 2000].
Развитие идентичности НАТО в направлении сообщества безопасности нашло отражение в Стратегических концепциях 1991 и 1999 гг., в которых разрабатывались новые социальные роли для альянса, не связанные с обороной и сдерживанием: содействие демократическому транзиту новых членов союза, поддержание мира в Европе и урегулирование возникающих кризисов, прежде всего на Балканах, сохранение культурной общности государств- членов [Ham, 2001]. По мнению некоторых исследователей, в результате такого расширения компетенций к началу XXI в. альянс превратился в своего рода мировое общество, которое могло быть транслировано на глобальный уровень [Buzan, Schouenborg, 2018]. Столь же оптимистичными были и самопредставления Брюсселя: «Роль альянса была центральной в разработке новых моделей сотрудничества и развития взаимопонимания в Евро-Атлантическом регионе; НАТО взяла на себя обязательства по выполнению принципиально новых видов деятельности в интересах более широкого понимания стабильности в мире», — говорилось в Стратегической концепции 1999 г.
Китай в 1990-е годы уже не играл для НАТО роль союзника против СССР/России и не принимал ни прямого, ни косвенного участия в обновлении идентичности блока, поскольку новые виды совместных действий в сообществе безопасности не предполагали вовлечения КНР. Расширение Североатлантического альянса в этот период ни с функциональной, ни с географической точек зрения не выходило за рамки традиционной «зоны ответственности», которая оставалась ограничена Евро-Атлантическим регионом. Соответственно ни проведение операций по кризисному урегулированию на Балканах, ни информационное сопровождение процесса расширения не предполагали какого-то специального акцентирования позиции Китая.
Сам Пекин также не демонстрировал интереса к интенсификации отношений. Более того, негативное влияние на двустороннее взаимодействие, фактически сведшее его на нет, оказали события на площади Тяньаньмэнь в 1989 г., а затем кампания НАТО на Балканах, когда в ходе бомбардировки Белграда в 1999 г. пострадало посольство Китая. Реакция Пекина была оправданно жесткой: специальный представитель КНР в ООН назвал произошедшее «варварской атакой НАТО».
Тем не менее это не привело к ответным изменениям в риторике альянса о Китае: взаимодействие со странами вне Евро-Атлантического региона, кроме Японии, сохраняло низкую степень приоритетности для Брюсселя вплоть до середины 2000-х годов. Конфликт с КНР не играл принципиальной роли для самопозиционирования НАТО и поэтому не акцентировался.
Глобальный альянс в начале 2010-х годов.
Значимую роль китайский фактор приобрел уже в процессе формирования глобальной идентичности НАТО, когда на фоне кампаний альянса в Афганистане и Ираке в 2001 и 2003 гг. начал расти интерес блока к Ближнему Востоку и Азии. Он был обусловлен как объективной потребностью в координации действий с региональными государствами при проведении операций, так и основанным на успешной реализации совместных действий за пределами Евро- Атлантического региона стремлением к дальнейшему расширению сферы ответственности. Стратегическая концепция 2010 г. зафиксировала пик амбиций НАТО в отношении своей роли в международных отношениях. Для того чтобы реализовать их и обеспечить сохранение влияния Североатлантического альянса на международные процессы, нужно было обновить идентичность и закрепить ее расширенную, глобальную интерпретацию, которая бы убедительно обосновывала для всех стран блока необходимость использования национальных ресурсов в интересах безопасности в отдаленных регионах мира.
Для стимулирования качественного переосмысления коллективных самопредставлений был существенно пересмотрен в сторону расширения список актуальных угроз странам альянса: к ним были отнесены вызовы транснационального характера, в том числе международный терроризм, организованная преступность, распространение оружия массового уничтожения, а также традиционные государственные контрагенты, в число которых попали государства-изгои. Уверенность руководству НАТО в возможности и необходимости превращения блока в глобального провайдера безопасности придавали успешный опыт преодоления разногласий между странами-членами в ходе операций на Ближнем Востоке и перспектива включения в альянс Украины и Грузии [Heisbourg, 2020]. Проверкой готовности НАТО воспринимать себя в качестве гаранта глобальной безопасности могла стать операция в Ливии в 2010–2011 гг., однако неудачи, связанные с ее проведением, напротив, вскрыли неспособность большинства стран альянса брать на себя глобальную ответственность. Эти тенденции проявились и после начала гражданской войны в Сирии в 2012 г., в том числе в контексте спровоцированного данными событиями миграционного кризиса в Европе.
Так или иначе, стремление НАТО взять на себя решение задач по поддержанию глобальной безопасности с неизбежностью ставило вопрос о переосмыслении отношений альянса с КНР. Рост активности как Брюсселя, так и Пекина в этот период привел к пересечению их интересов в ряде регионов: в Афганистане, Центральной Азии, Аденском заливе и Средиземном море, что предполагало как минимум необходимость координации текущих операций, а как максимум — развитие общих практик. В качестве отдельного направления потенциального взаимодействия выделялись борьба с последствиями природных катастроф и оказание гуманитарной помощи развивающимся государствам, что отвечало «антикризисному» измерению глобальной натовской идентичности. В итоге к началу 2010-х годов в дискурсе объединения участились упоминания КНР как потенциального партнера, взаимодействие с которым улучшает позиции альянса в Азии. Исследователи в этот период считали, что углубление сотрудничества могло бы содействовать превращению НАТО в глобальный хаб безопасности и сохранению политического веса блока в международных делах.
Практическим подтверждением возросшего интереса Брюсселя к Пекину стала институционализация их взаимодействия, начавшаяся с обмена визитами официальных лиц в конце 2009 — начале 2010 г. По итогам последнего такого визита занимавший тогда пост генерального секретаря альянса А. Расмуссен заявил, что КНР не является угрозой, более того, у НАТО и Китая много общих интересов и им необходимо дальше укреплять сотрудничество. КНР воспринималась как динамично развивающаяся держава, способная внести вклад в глобальную безопасность в качестве члена Совбеза ООН и активного участника миротворческих миссий, а также как сторона, заинтересованная в разрешении конфликта в Афганистане. В развитие этой логики в 2012 г. политическое измерение сотрудничества было дополнено военным. Кроме того, была достигнута договоренность о проведении ежегодных переговоров на уровне профильных ведомств с перспективой запуска программ совместной подготовки кадров. Выдвигались планы по налаживанию регулярного обмена мнениями в рамках форума по модели Совета Россия — НАТО.
Два направления взаимодействия Брюсселя и Пекина рассматривались как особенно перспективные [Heisbourg 2020]. Прежде всего, это уже упомянутое урегулирование ситуации в Афганистане — участие военных и гражданских ведомств КНР в деятельности Сети миссий НАТО в Афганистане (Afghan Mission Network) и разработке общей операционной карты (Common Operational Picture). Второе направление — это борьба с сомалийскими пиратами в Аденском заливе и пиратством в целом. С 2008 г. военно-морские силы КНР осуществляли патрулирование в этом пространстве, что позволяло рассмотреть возможность проведения совместных операций и учений в регионе. В 0032011 г. ВМС Китая вместе с ВМС НАТО осуществили антипиратскую миссию «Океанский щит» (Ocean Shield).
Вместе с тем конструктивное взаимодействие развивалось исключительно в зонах, удаленных от непосредственных границ альянса и относящихся к глобальному элементу его идентичности. Иные формы сближения вызывали тревогу у Брюсселя. Например, китайско-турецкие учения ВВС в 2010 г. были восприняты как неоднозначный шаг из-за возможной утечки в КНР тактических и разведывательных наработок НАТО. Аналогичную реакцию вызвали совместные китайско-польские учения военного медицинского персонала и других кадров, в том числе для миротворческих миссий. В 2009 г. началась дискуссия и о потенциальном соперничестве с КНР в области кибербезопасности. Однако эти обсуждения происходили еще в достаточно сдержанной тональности. «Безопасность должна быть результатом общих усилий <…> альянс должен быть осведомлен о глобальных процессах, иметь связи со всем миром и способность влиять на глобальные процессы, — говорил А. Расмуссен, — и для этого нужно более тесное сотрудничество с Россией, Китаем и ЕС». Соответственно в этот период действия уже начавшего «расти» Китая не секьюритизировались, но в повестке дня альянса сформировалась устойчивая корреляция между глобальной идентичностью НАТО и «китайским фактором».
Актуальные самопредставления НАТО и место Китая в повестке дня альянса
Глобальный или региональный альянс?
Во второй половине 2010-х – начале 2020-х годов Североатлантический альянс столкнулся с дилеммой. С одной стороны, добиться интернализации союзниками глобальной идентичности образца 2010 г., как было отмечено выше, не удавалось в полной мере. Начало конфликта между Россией и Западом вокруг Украины в 2014 г. усилило сомнения ряда стран НАТО из Центральной и Восточной Европы в необходимости поддержания фокуса объединения на глобальных, а не региональных задачах. Приход к власти в США администрации Д. Трампа, скептически настроенного в отношении альянса и вклада европейских союзников в его жизнеспособность, придал новый импульс развитию идей европеизма и способствовал укреплению оборонных возможностей в рамках ЕС, направленных на обеспечение безопасности в своем регионе и по его границам. В этих условиях требовались дополнительные усилия со стороны руководства НАТО как для поддержания центростремительных тенденций в принципе, так и для убеждения союзников в необходимости масштабирования совместной деятельности и несения ответственности за глобальную безопасность [см. подробнее на эту тему: Мельникова, 2021]. С другой стороны, на фоне усиления великодержавной конкуренции транснациональные вызовы потеряли свою остроту, а значение традиционного измерения безопасности возросло.
Для осмысления своего положения в изменившихся международно-политических условиях был запущен процесс #NATO2030 по разработке новой стратегической концепции альянса с привлечением дипломатических, общественных и экспертно-аналитических кругов. В его рамках секьюритизация Китая началась именно в развитие логики укрепления идентичности, но построенной уже не на взаимодействии с партнерами по всему миру в преодолении транснациональных вызовов, а на возможности противостоять любым игрокам в глобальном масштабе. Вехами этого процесса стали программное выступление генерального секретаря блока Й. Столтенберга летом 2020 г., а также публикация доклада экспертной группы «#NATO2030: вместе в новую эру» в конце 2020 г. В обоих текстах было представлено концептуальное обоснование необходимости для НАТО перейти к глобальному восприятию безопасности, повысить внимание к событиям в мире, налаживать сотрудничество только с «ценностно близкими» государствами Азии, чтобы «сохранить возможность устанавливать нормы и стандарты в глобальном масштабе» и не допустить осыпания порядка, основанного на правилах, не потерять свои конкурентные преимущества перед растущими державами, прежде всего Китаем.
Однако переход конфликта между Россией и Западом в новую фазу в 2022 г. изменил внешние условия функционирования НАТО. Обрушение архитектуры безопасности в Европе сняло остроту необходимости адаптации идентичности к формированию многополярного миропорядка. Повысить сплоченность государств-членов в короткие сроки удалось за счет восстановления привычной формы идентичности — направленного на сдерживание Москвы регионального военно-политического альянса. Планы по глобальной экспансии соответственно утратили первостепенное значение, а поиск «значимого другого» на азиатском направлении потерял свою актуальность. В связи со столь резким изменением международно- политических условий дискурс НАТО о себе сегодня сохраняет внутреннюю противоречивость: в нем по инерции остаются элементы курса 1991–2010 гг. на расширение функциональной, географической и смысловой сфер ответственности, но в качестве основы самопозиционирования выступает противодействие Москве как привычной конвенциональной угрозе.
Яркой иллюстрацией смещения фокуса является Стратегическая концепция 2022 г.: большую часть документа занимает описание военных средств поддержания безопасности и «свободы» стран НАТО — различных форм наращивания обороноспособности альянса. Акцент сделан именно на защите объединения, а не на экспорте своей модели безопасности. Если в документах 1999 и 2010 гг. перед блоком ставились три задачи: предотвращение кризисов, кооперативная безопасность и коллективная оборона, то к 2022 г. последняя превратилась в «оборону и сдерживание», выйдя на первый план. Среди основных целей в новейшей концепции указаны прежде всего разработка способов реагирования на угрозы и приведение политики, возможностей и структуры управления альянсом в соответствие с ними.
Если рассматривать угрозы и вызовы как образ «чужого», то они стали более конкретными: распространение оружия массового уничтожения, терроризм и киберпреступность были перенесены в конец документа, а стратегическая конкуренция держав, усиление авторитаризма и постоянная нестабильность — в начало. Показательно, что в период разработки концепции главным обоснованием необходимости повышения глобальной роли НАТО выступали усложнение внешней среды и рост неопределенности, но в итоговом документе они заняли последнее место среди причин снижения безопасности альянса, уступив действиям России и Китая. Соответственно можно отметить менее проактивный характер НАТО после 2022 г. и большую функциональную ограниченность идентичности блока. Более того, в 2023 г. в выступлениях генерального секретаря альянса всё чаще стала звучать мысль о региональном масштабе объединения. С точки зрения противопоставления «свой — чужой» роль последнего выполняет прежде всего Россия, а затем Китай как растущие центры силы, бросающие вызов «порядку, основанному на правилах».
Место Китая в актуальном нарративе НАТО.
Несмотря на то, что переоценка международно-политических условий и своей роли в них началась в НАТО еще в середине 2010-х годов, для закрепления китайского фактора в официальном дискурсе объединения потребовалось время, что можно объяснить как раз не вполне очевидной объективностью угрозы со стороны Пекина для безопасности стран альянса. Впервые КНР появилась в коммюнике саммита Североатлантического совета в 2019 г. в следующей формулировке: «… рост Китая в международных процессах представляет собой вызов и возможность для альянса и требует коллективной реакции». После этого начался процесс соотнесения этих категорий между собой для выработки обоснования необходимости перехода к дистанцированию от КНР.
До 2022 г. политизация китайского фактора производилась за счет апелляции к роли КНР в развитии нетрадиционных угроз безопасности. Так, в докладе экспертной группы #NATO2030 указано, что «напористость» (assertiveness) Китая, его практики «принуждения» (coercion) вступают в противоречие с евро-атлантическим видением глобального управления, а в таких сферах, как киберпространство, критическая инфраструктура, космос, телекоммуникации и т.д., стороны становятся соперниками. Такая риторика была направлена на преодоление расхождений позиций США и стран ЕС по отношению к Китаю и на уточнение идентичности альянса в целом, наращивание общей «стрессоустойчивости». Она могла бы способствовать обоснованию дальнейшего расширения зоны ответственности НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, если бы удалось объединить союзников на антикитайской основе. В Стратегической концепции 2022 г. китайский фактор был интерпретирован в логике традиционных угроз безопасности блока: в тексте указано, что расширение глобального присутствия Китая и непрозрачность его намерений, стремление к подрыву существующего миропорядка, в том числе в киберпространстве, в космосе и на море, наносят ущерб непосредственной безопасности альянса.
С тех пор Китай постоянно присутствует в выступлениях представителей НАТО как значимый «чужой». Эта установка закрепляется за счет повторяемой триады из концепции, что «КНР является вызовом ценностям, интересам и безопасности [альянса]». Аналогичны по смыслу и цели и высказывания о том, что Китай «не разделяет ценности и образ жизни [альянса]», выступает «альтернативной моделью организации обществ», «бросает вызов самой природе обществ [альянса]», а с недавних пор — и экономике блока. Как правило, эти заявления сопровождаются уточнением, что Китай «не является врагом» НАТО, но не во всех случаях. На основе анализа более 80 выступлений генерального секретаря альянса Й. Столтенберга и его заместителя М. Джоанэ в 2022 — начале 2024 г. можно выделить несколько ключевых нарративов секьюритизации китайского фактора в евро-атлантической повестке.
Основной нарратив, направленный на закрепление за КНР статуса государства, представляющего для НАТО общую угрозу, с 2022 г. связан с российско-китайским сотрудничеством. Это вполне объяснимо, поскольку позволяет использовать сложившийся в объединении антироссийский консенсус и масштабировать его на взаимодействие с контрагентом в Азии, тем самым продемонстрировав взаимосвязь между региональной и глобальной безопасностью. «Россия — наиболее насущный, но Китай — наиболее серьезный вызов в долгосрочной перспективе», — утверждают представители НАТО.
Российский и китайский факторы воспринимались в связке еще в докладе экспертной группы 2020 г., где предлагалось создать отдел анализа взаимодействия Москвы и Пекина в рамках Совместного подразделения НАТО по разведке и наращиванию стрессоустойчивости, однако специальная военная операция России на Украине открыла для руководства альянса возможность использовать российско-китайское сотрудничество в качестве аргумента для дальнейшей секьюритизации КНР. Апелляция к потенциальному формированию союза Пекина и Москвы выступает также в качестве одного из обоснований необходимости углубления взаимодействия с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, является рефреном встреч руководства альянса с представителями Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии. Наконец, сопоставление РФ и КНР в дискурсе НАТО позволяет также секьюритизировать экономическое взаимодействие государств альянса с Пекином в попытке повлиять на страны ЕС: в качестве примера приводится критическая зависимость европейских стран от российских энергоносителей, которая в случае конфликта привела бы к шоковым последствиям для их экономики. Представители альянса отмечают, что КНР производит 70% батарей для электромобилей и 80% солнечных панелей в мире, а это создает столь же опасную зависимость уже в сфере возобновляемых источников энергии и требует превентивных мер по снижению закупок в Китае редкоземельных металлов, сокращению доступа КНР к критической инфраструктуре ЕС, диверсификации экономических партнеров.
Второй нарратив, связанный с секьюритизацией уже непосредственно китайских действий, как представляется, направлен на формирование образа «чужого» в лице КНР. В его рамках дискурс безопасности конструируется за счет продвижения идеи «приближения Китая к границам НАТО», которое еще недавно воспринимали как возможность для сотрудничества. В качестве примеров выступают реализация китайской инициативы «Один пояс, один путь» на Западных Балканах и в Африке, вовлеченность Китая в миротворческие процессы на Ближнем Востоке, его интерес к освоению Арктики и миссии по патрулированию морских пространств. Расширение географического охвата внешних действий Пекина представители НАТО связывают с ростом военного потенциала КНР, в том числе ядерного, стремлением установить опосредованный контроль над новыми территориями, использовать практику «принуждения» в отношении третьих стран в интересах укрепления глобального влияния. Примечательно, что более очевидный, на первый взгляд, с точки зрения критики применения Китаем военной силы регион Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей реже упоминается в выступлениях руководителей НАТО, чем более близкие к границам альянса пространства. Можно предположить, что на этапе, когда глобальная идентичность блока окончательно не сформирована, акцентирование физического приближения потенциального «чужого» к собственным рубежам более эффективно создает иллюзию опасности, по мнению лидеров НАТО, чем апелляция к необходимости контролировать удаленные регионы мира. Третий нарратив в рамках антикитайского дискурса НАТО связан с продвижением идеи об уже существующем соперничестве КНР и стран Запада в общих пространствах и об исходящих от Китая новых вызовах безопасности. Прежде всего, внимание альянса по-прежнему сосредоточено на растущей активности Пекина в киберпространстве. Представители НАТО подчеркивают, что возможности КНР в сферах искусственного интеллекта и других прорывных технологий представляют собой угрозу не только как конкурентное преимущество Китая, но и как первая в истории попытка оспорить технологическое превосходство Запада, внедрить альтернативные принципы информационной политики, а значит, противодействие КНР необходимо не ради ситуативных интересов, но ради «мира, в котором будут жить наши дети и внуки». Соответственно конкуренция приобретает аксиологический характер. На основе анализа документов альянса и выступлений его представителей за 2022–2024 гг. можно сделать вывод, что хотя антикитайские нарративы стали неотъемлемой частью официального дискурса НАТО, их убедительность ограничена. Это подтверждается тем, что за рассмотренный период эти нарративы практически не эволюционировали: в попытках обосновать необходимость ужесточения позиции блока по отношению к КНР политики воспроизводят одни и те же смысловые конструкции, связанные с ценностями и альтернативной моделью организации обществ, а также с приближением Китая к границам альянса. Повторение идентичных формулировок, вероятно, призвано работать на закрепление дискурса, но на практике приводит к его рутинизации и выхолащиванию. Логично, что в отсутствие подтверждений наличия реальной угрозы в действиях КНР внимание НАТО направлено на отработку вспомогательного аргумента о развитии российско-китайского сотрудничества как фактора, снижающего безопасность объединения.
Под влиянием описанных нарративов стратегический диалог КНР и НАТО, хотя и не прекратился, ожидаемо не получил и дополнительного импульса. В феврале 2023 г. впервые после начала пандемии COVID-19 состоялся седьмой раунд переговоров военных ведомств: на повестке дня были ситуация вокруг Украины, вопросы морской безопасности, новая Стратегическая концепция НАТО и военная модернизация в КНР. В 2024 г. переговоры состоялись в восьмой раз, но ни их повестка, ни формулировки итогового пресс-релиза не изменились. Никаких свидетельств укрепления взаимопонимания сторон в открытых источниках не прослеживается. Контакты по дипломатической линии также ограничиваются российской проблематикой и ситуацией вокруг Тайваня. В сущности, взаимодействие является скорее эпизодическим и носит протокольный характер.
Целевая аудитория актуального дискурса и идентичность альянса.
Идею о необходимости разработки антикитайских нарративов для обновления евро-атлантической идентичности подтверждает и тот факт, что их целевой аудиторией в развитие положений #NATO2030 об укреплении евро-атлантической солидарности выступают в первую очередь европейские страны блока. На встречах с лидерами государств ЕС, представителями Европейской комиссии или в выступлениях генерального секретаря НАТО и его заместителя перед европейскими партнерами китайская тема поднимается практически всегда, и акцент делается именно на сохранении «стратегической солидарности» перед лицом «принудительных практик» Китая.
Показательно, однако, что при взаимодействии со странами альянса, в наибольшей степени заинтересованными в сотрудничестве с КНР, прежде всего с Германией, позиция НАТО становится более гибкой. Политики начинают активно использовать экономическую проблематику, озвучивают возможность поддержания ограниченного сотрудничества или, например, диалога по защите окружающей среды. Это отличает такие встречи от переговоров с американскими партнерами, где дискурс становится более жестким и центрируется вокруг военных потенциалов. Результаты этих усилий неоднозначны. С одной стороны, в Совместной декларации о сотрудничестве ЕС и НАТО 2023 г. было закреплено, что «растущая напористость» Китая бросает вызов всему западному сообществу, в то время как НАТО остается его опорой в области обороны от всего спектра угроз. С другой стороны, на уровне общественного мнения конструирование угрозы идет с переменным успехом: только 54% респондентов по состоянию на 2023 г. относятся к Китаю негативно. На правительственном уровне позиция европейских стран также остается амбивалентной: после того как конфликт вокруг Украины вошел в позиционную фазу и острота восприятия Москвы и Пекина как единого общего вызова снизилась, в дискурс НАТО вернулось положение, что торговля и взаимодействие с КНР будут продолжены в соответствии с европейским подходом по «снижению рисков».
Вторая по частоте апелляции и важности референтная группа для НАТО — это союзники и партнеры в Азии. Основная тема встреч руководства альянса с представителями Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии — равнозначная актуальность для блока проблем безопасности в Евро-Атлантическом и Азиатско- Тихоокеанском регионах, а также потенциальная роль КНР в ее дестабилизации. Вместе с тем коммуникация с азиатскими партнерами — это скорее задел на средне- и долгосрочную перспективу развития альянса. Сегодня представители НАТО подчеркивают, что сфера ответственности объединения ограничивается региональным масштабом, а расширение за счет новых членов из Азии или иная форма институционализации сотрудничества не рассматривается. Партнерство с ними развивается на основе индивидуально разработанных программ. Такая позиция позволяет НАТО учитывать неготовность членов альянса, интересы которых в области безопасности имеют сугубо локальный масштаб, например балканских государств или стран Центральной и Восточной Европы, к включению в обеспечение безопасности в Азии, но одновременно создает фундамент для возвращения к идее глобализации сферы ответственности блока в будущем, если международно-политические условия будут благоприятными.
Таким образом, в текущем виде дискурс о КНР и его применение в отношении различных реципиентов не свидетельствуют о переходе идентичности НАТО в глобальное качество и готовности Северо- атлантического альянса к радикальной трансформации самопредставлений и изменению общих практик в направлении наращивания активности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Напротив, этот дискурс показывает, что именно акцентирование регионального характера организации является главным, если не единственным фактором, стимулирующим центростремительные тенденции.
* * *
Формирование образа Китая как «чужого» или «значимого другого» для НАТО началось во второй половине 2010-х годов в целях укрепления и масштабирования расширенной идентичности Североатлантического альянса как гаранта глобальной безопасности. Переход от сотрудничества с КНР в рамках управления кризисами в регионах, представляющих общий интерес, таких как Афганистан, Африканский Рог или Центральная Азия, к политизации, а затем и секьюритизации действий Пекина на этих пространствах и в глобальном масштабе стал производным от изменения международно-политических условий и логики развития взаимодействия между ключевыми игроками. Рост великодержавной конкуренции привел к тому, что поддержание глобальной роли альянса потребовало формирования среди государств-членов убежденности в необходимости уже не только проведения операций по урегулированию конфликтов в различных регионах мира и противодействия новым вызовам в них, но и полноценной способности соперничать с другими растущими центрами силы. «Китайская угроза» должна была стать элементом закрепления и воспроизводства такой идентичности.
Вместе с тем переход конфликта России и Запада в новую фазу в 2022 г. привел к тому, что наиболее эффективной в консолидации стран альянса оказалась конвенциональная «угроза» со стороны Москвы, которая способствовала как минимум временному восстановлению высокой степени сплоченности НАТО на основе идентичности как регионального военного-политического объединения. Для сохранения общности дополнительная «китайская угроза» не требуется. Неслучайно после обозначения КНР в качестве вызова в Стратегической концепции альянса 2022 г. антикитайский дискурс практически не развивается с содержательной точки зрения, а его наиболее устойчивым элементом становится нарратив об опасности укрепления партнерства Москвы и Пекина. Другим значимым нарративом представляется «угроза» попадания стран ЕС в экономическую и технологическую зависимость от Китая, аналогичную существовавшей «зависимости» от поставок энергоносителей из России. Такая риторика направлена на преодоление частично сохраняющихся кооперационных тенденций в европейско-китайских отношениях и в перспективе — на унификацию реакции всех стран альянса на «возвышение» КНР.
Соответственно сегодня фокус на сдерживании России и участии в вооруженном конфликте в Европе препятствует трансформации коллективной идентичности НАТО в сторону глобальной и концентрации альянса на противостоянии с КНР. Смягчение внутренних разногласий на фоне общей угрозы в лице Москвы укрепило внутреннюю сплоченность членов блока, но при учете возвращения самопредставлений на региональный уровень смысл секьюритизации Китая пока остается размытым.
При том что стратегически руководство НАТО всё еще заглядывает вперед и прощупывает почву для идеологического оформления соперничества c КНР, тактически на ближайшую перспективу альянс будет сосредоточен именно на региональной повестке как по объективным причинам, связанным с вооруженным конфликтом в Европе, так и на фоне сохраняющихся различий в степени политизации «китайской угрозы» между США и европейскими странами НАТО. Наконец, определенную роль играет и сам факт недостаточной проработки антикитайского дискурса, его внутренняя противоречивость. По этим причинам окончательная секьюритизация Китая в евро-атлантической повестке не может произойти до завершения конфликта вокруг Украины и будет во многом зависеть от его исхода. В случае поражения странам НАТО претендовать на глобальную идентичность и обосновать ее будет еще сложнее, чем сейчас.
Вместе с тем в целях уточнения прогнозов относительно перспектив восстановления и укрепления глобальной идентичности Североатлантического альянса за счет «китайской угрозы» в будущем требуется дополнительное исследование влияния национальных интересов государств-членов на официальный дискурс НАТО и впоследствии — на общие практики. В развитие конструктивистской идеи о том, что основу коллективной идентичности, как правило, составляет дискурс наиболее убедительного и/или наиболее сильного члена сообщества, особого внимания заслуживает соотнесение национальных повесток США и европейских стран НАТО о Китае. Но эти вопросы заслуживают отдельного рассмотрения.
Юлия Мельникова, к.полит.н., программный менеджер РСМД