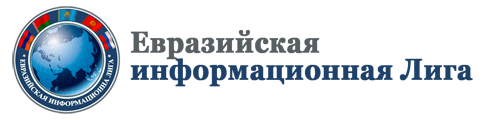Есть немало примеров стратегических сюрпризов в истории. Легионы основали Римскую империю. Дивизионная система позволила Наполеону провести эпические по масштабам кампании. Применение поездов и пулеметов во время гражданской войны в США ознаменовало собой начало индустриальной войны, за которой последовали две мировых, «тотальных» войны. Мао, Зяп и Че Гевара изобрели революционную войну, которая неизменно сопровождала деколонизационный процесс в ХХ веке.
История познала множество стратегических сюрпризов, которые в свое время далеко не всегда воспринимались как таковые. В любом случае отстраненный наблюдатель вынужден признать, что стратегический сюрприз является неотъемлемой частью стратегической истории. История учит нас, что стратегии без сюрпризов не бывает. В то же время не всякий сюрприз можно назвать стратегическим: даже решающие сражения не обязательно опираются на сюрприз, который, в свою очередь, может и не быть признаком стратегических потрясений. Сюрприз может быть тактическим или операционным.
Как бы то ни было, появление ядерного оружия с полным на то основанием можно отнести к категории стратегического сюрприза, хотя в те времена мало кто рассматривал его с такой стороны. Изначально теоретики воспринимали его как нечто вроде супер-артиллерии. И только позднее, в середине 1960-х годов, теории получили развитие, и всем стало ясно, что ядерное оружие кардинальным образом меняет грамматику войны. Биполярный мир, конфронтация двух грандов на европейском континенте — все это стало возможным лишь благодаря мощи ядерного оружия. Оно превзошло все известное нам до того момента и вело новый стратегический подход с проявлениями на нескольких уровнях (обоюдное уничтожение для американцев, сдерживание слабым сильного для французов). С появлением ядерного оружия старые принципы ведения войны перестали быть возможными. Оно легло в основу огромного стратегического скачка, который стал совершенно необратимым и сегодня учитывается во всех стратегических расчетах.
Запуск спутника в 1957 году напоминает этот скачок, пусть в стратегическом плане все и не так ясно. Прежде всего, он изменил ядерную стратегию, потому что предложил новое средство доставки оружия, то есть баллистическую ракету. Кроме того, он открыл космос и положил начало космической гонке, породив тем самым кардинальные перемены, которые продолжаются по сей день, хотя и мало кому известны за пределами узкого круга специалистов. Главное — это не лунная гонка и не запрет оружия в космосе, а его растущее использование в качестве вспомогательного инструмента для нашей наземной деятельности (в том числе стратегической). Это ведет не к милитаризации космоса, а превращению его в своего рода арсенал: мы будем пользоваться им все чаще и чаще, в том числе для решения стратегических задач (шпионаж, противоракетная оборона, интеграция воздушного и космического пространства и т.д.).
Теракты 11 сентября, вероятно, тоже следует отнести к категории стратегического сюрприза. Они повлекли за собой избыточную реакцию США, которая вылилась в целый ряд военных операций (Афганистан, Ирак, Йемен, Сомали). Кроме того, они легли в основу множества теоретических инноваций (война с терроризмом, контртеррористические операции) и новой позиции США (так называемая доктрина Обамы), которая включает в себя удаленные операции (спецподразделения, беспилотники, кибератаки) и непрямой контроль («лидерство из-за кулис», использование местных агентов, расширение частных военных компаний). И даже если события 11 сентября не стали причиной возникновения всех этих перемен, они в любом случае помогли им закрепиться.
Все эти недавние примеры подвели многих комментаторов к тому, чтобы особо подчеркнуть меры для предотвращения подобных стратегических сюрпризов. Так, например, по их мнению, более эффективная разведка должна помочь лучше их предугадать. Это в свою очередь влечет за собой гипотезу о понятии предвосхищения: разведка должна помочь заранее узнать то, что произойдет, в частности в стратегической сфере. Иначе говоря, разведка носит прогнозообразующий и стратегический характер.
Это открывает широкое поле для теории о «слабом сигнале», который нужно «вовремя» рассмотреть, чтобы понять ситуацию и принять превентивные меры. Как бы то ни было, теории слабого сигнала зачастую бывает недостаточной: так, например, для прогнозирования вспышки народного недовольства в тунисском городе Сиди-Бузид (не говоря уже о подъеме всей страны) потребовалось бы найти всех уличных торговцев и установить за ними пристальный контроль, определить показатели безработицы, разобраться с каждодневными отношениями с местной полицией, а также проанализировать общественную ситуацию. Это позволило бы предвидеть арабские восстания, которые не стали бы стратегическим сюрпризом. Такое суждение, разумеется, совершенно абсурдно. Методику слабых сигналов никак не назвать убедительной. Слабый сигнал — это фактор, который находится обычно уже после события. Слабые сигналы лишь на первый взгляд возникают до происшествия, ведь по факту они становятся чем-то весомым уже после него. По сути это вообще не сигналы.
В то же время наблюдение за макроданными демографии, экономики и культурного развития Туниса должно было бы создать представление о потенциальных рисках. Более того, эти сведения никто и не пытался скрывать. Таким образом, вопрос тут касается не разведки, а аналитического мышления и способности отойти от привычных схем. Разведка по большей части находится на уровне тактики и микроменеджмента, тогда как стратегия по определению относится к категории «макро». Поэтому разведка не в состоянии сама по себе стать средством предотвращения стратегических сюрпризов.
Тем не менее с 11 сентября 2001 года мы рассуждаем под давлением парадигмы стратегического сюрприза, который может произойти, когда мы того не ожидаем. Он связан с расхождением между тем, что мы ждем, тем, что происходит в действительности. Он опирается не только на знания, но и суждения, то есть восприятие мира: то, что считается прочным и незыблемым, и то, что считается изменчивым. В конечном итоге источником сюрприза становятся наши собственные гипотезы, бессознательная суть которых делает их лишь сильнее.
Но входит ли каберпространство в категорию «стратегический сюрприз»? Нет, уже потому лишь, что все давно высказывали гипотезу насчет его появления. Каждый как может потрясает пугалом неизбежной и страшной киберугрозы. Киберпространство никого не удивляет, потому что все и так о нем говорят. Однако это не означает, что оно не носит структурирующий характер и не влияет на грамматику войны. К этому мы вернемся чуть позднее.
В этой связи достаточно послушать рассуждения американцев о «кибер-армагеддоне» (ФБР в 2009 году) или выступления и министра Леона Панетты о «кибер-Перл Харборе» (в 2012 году в разгар острейших дебатов вокруг сокращения бюджета). Здесь, кстати, отметим, что понятие стратегического сюрприза по своей сути типично американское так, словно сформировавшее в США представление мира обречено на регулярные опровержения действительностью. Во всей американской доктрине без конца подчеркивается возможность массовых ударов, в том числе ключевым объектам инфраструктуры (границы этого сектора очерчены предельно туманно).
В то же время здесь прослеживаются слишком явные параллели с ядерным оружием (в его разрушительной функции) и сюрпризами прошлого (Перл Харбор и 11 сентября стали настоящими архетипами американской стратегической риторики) для того, чтобы такая «новинка» могла сама по себе лечь в основу нового стратегического порядка.
Как ни парадоксально, но мы слишком много готовились и не можем испытать удивления по этому поводу. Объясняет это и формирование АНБ (с киберкомандованием) с невообразимым бюджетом в 10 миллиардов долларов и 35 000 штатных сотрудников (60 000 с учетом сопутствующих служб). Первостепенное значение технологий и сила военно-промышленного комплекса объясняют такие объемы, однако оправдание все равно остается на уровне киберпространства.
Иначе говоря, возникавшие до настоящего момента сюрпризы в связи с появлением киберпространства не влекли за собой кардинальных перемен в стратегической сфере. Киберсюрпризы на самом деле были, но они никак не выбивались из существующего стратегического порядка. Давайте подробнее вспомним о них.
Прошлые киберсюрпризы
Так, хотя в 1991 году войну в Косове называли первой интернет-войной из-за ударов сербских активистов по сайту НАТО (это, кстати, никак не отразилось на ходе самих операций), первым настоящим поворотным моментом стали кибератаки эстонские серверы в 2007 году. Тогда международное сообщество осознало, что киберпространство может активно использоваться в политических целях. Однако государство предстало в образе жертвы.
Скандал вокруг Stuxnet в 2010 году привел к пониманию другой стороны вопроса: одно государство может провести точечную операцию против другого. Другими словами, государство может быть не только жертвой, но и агрессором. В то же время речь шла об открыто конфликтной ситуации противостояния Ирана с его ядерной программой и Запада (США на пару с Израилем), который стремился не допустить распространения атомного оружия. Ситуация выстраивалась по классической схеме конфликтов, в центре которой стоят государства. И киберпространство представлялось лишь неким дополнительным уровнем выражения этой самой конфликтности.
Сюрприз Сноудена
Дело Сноудена открыло новое измерение и тем самым стало настоящим стратегическим сюрпризом. Хотя до того момента киберпространство рассматривалось как среда для крупномасштабной агрессии (американский синдром Перл Харбора и 11 сентября), действительность создала иные причины для удивления. В 1999 и 2000 года мы слышали разговоры об «Эшелоне», но тогда мы только начинали осознавать последствия тотального шпионажа, а уничтожение нью-йоркских башен-близнецов кардинальным образом изменило направление стратегических споров. С тех пор мы говорим главным образом о терроризме и асимметричной войне. Stuxnet же вернул нас к старой теме. Однако сюрприз не в этом, а в проявлении новой, постгоббсовой природы мира. Современную международную систему нельзя назвать многополярной, однополярной, необиполярной и т.д. Ни одно из таких схематических определений никак под нее не подходят. На самом деле сегодняшняя система аполярна, что подразумевает борьбу всех против всех. Иначе говоря, у нас больше нет врагов, как нет и друзей.
США стали первопроходцами в реализации такой глобальной позиции. Именно они раньше всех ввели в обиход понятие «остальной мир». Поэтому PRISM и тотальный шпионаж стали материальным отражением того, во что они всегда неосознанно верили: непохожесть означает соперничество. Каждый, даже самый убежденный атлантист понимает, что сегодня может быть принят за противника США. И что де факто уже им является.
Тут-то и скрывается настоящий стратегический сюрприз: скандал с PRISM.
Эту систему не назвать удивительной «саму по себе», потому что тяга американцев к слежению за всем и вся ни для кого не секрет еще с конца 1990-х годов. В то же время масштаб программы PRISM стал сюрпризом, так как пролил свет на противоречие между стратегической риторикой и реальным положением дел. Так, американцы всячески напирали на существование угрозы шпионажа со стороны Китая, тогда как на самом деле все убедились, что информационное вторжение устроили сами США.
Обвинение всего мира в шпионаже и формирование образа врага (в первую очередь это относится к обвиненному в массовом шпионаже Китаю) использовались американцами для построения глобальной шпионской системы. Что, кстати, логично вписывается в условия современной стратегической среды.
Сюрприз связан с тем, что киберпространство в силу своих качеств проливает свет на новую, постгоббсовскую природу мира, которая подразумевает борьбу всех против всех. Сегодня одного главного врага больше нет. Это напрашивалось в геополитической среде и стало еще заметнее в киберпространстве. Далее, если врагов больше нет, если нет дискриминации по степени политической близости, то, как следствие, не остается и друзей.
Американские аргументы насчет PRISM заслуживают тщательного анализа: это законно, так было всегда, все шпионят за всеми. Все это напоминает оправдания насчет котелка, в котором каждый следующий аргумент опровергает предыдущий (Сосед обвиняет человека в том, что он вернул котелок в непотребном виде. Тот же в свою защиту говорит, что вообще не одалживал котелок, что вернул его в идеальном состоянии и что тот изначально уже был дырявый).